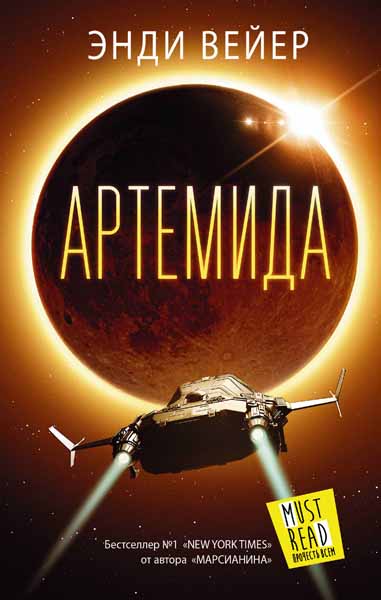«Путь» / «The Path» пал смертью храбрых после третьего сезона, так что можно написать о нём что-то окончательное.
Я почти не смотрю драмы. Даже если пытаюсь, то выходит как с «Breaking Bad»: я глянула несколько эпизодов и сделала вывод, что это очень хороший сериал и что я не смогу его смотреть.
Драмы кажутся мне невыносимо неинтересными. Голос во мне всё время спрашивает: «И чего?» Что это должно мне дать?
Я смотрю их, только если там есть что-то ещё, кроме отношений и/или того, как человек меняется, отвечая на обстоятельства. Не то, чтобы это было неинтересно, это неинтересно лично мне, если оно не сопровождается чем-то ещё.
В «Пути» было что-то ещё.
Он оказался историей о становлении религии. Мы различаем нынче религии и секты, хотя правда в том, что всё, что мы сейчас называем религией, изначально было сектами и гордилось тем, что было сектами. Любая религия нового типа (термин ненастоящей пока науки меметики) начинается именно с этого: закрытость, избранность, запрет на общение с непосвящёнными, наказание за выход, непогрешимость лидера, запрет на сомнения и т.д. Истовая вера в то, что спасутся только члены секты. Да, это суть любой религии нового типа, они так от этого и не уходят, терпимость не прошита в их меметическом ядре. Но наступает момент, когда они становятся мягче, когда они кое в чём меняются, и вот тогда мы начинаем называть их религиями. (В любой религии нового типа, да и не нового тоже, всё равно есть группы абсолютных фанатиков и экстремистов, но они есть везде, некоторым людям только дай повод сойти с ума, и повод этот они выбирают зачастую совершенно случайно, просто жизнь так складывается.)
Майеристы (религиозное движение, о котором речь идёт в «Пути») за три сезона проходят этот путь. Их организация первоначально называет себя движением, но это секта. Она соответствует признакам секты, если приглядеться. Внешне они больше походят на хиппи нового толка, но за этим фасадом скрываются вещи, которые ненормальны, хотя члены организации воспринимают их как должное.
В одном из последних эпизодов майеристов впервые открыто называют сектой, но слишком поздно: майеризм уже ей не является. Сын нового лидера, разозлённый оскорблением, предлагает членам движения проверить, так это или нет. Он называет один за другим признаки секты, и — да, о чудо — майеризм действительно больше не соответствует ни одному из них. Но что же произошло?
Как религиозное движение, начавшееся с безумиями одного человека и прагматичной жажды поклонения другого, перестало быть сектой и превратилось в духовное прибежище? Умер старый лидер и пришёл новый? Да, но нет. Они отринули свою закрытость и избранность, и да, это стало следствием политики нового лидера. Но его заслуга была только в этом.
Как только число участников движения перевалило за какую-то таинственную для нас, но объективную отметку; как только сидящий в основе каждой секты, каждого закрытого движения, каждой религии нового типа запирающий мемокомплекс (ЗМК) нажрался всласть, он поутих. Сытый хищник, еда у которого в обозримой перспективе не закончится, уже не агрессивен и не зол. Сонно зевая, он благодушно взирает на мясные комочки, перемещающиеся в поле его зрения.
Секты становятся религиями, когда растут. Видимо, у каждой из них, в зависимости от характера базового ЗМК, своя критическая отметка. Переходя через неё, они теряют первоначальный импульс. Множество разумов растворяет и ослабляет ЗМК. Это и произошло с майеризмом, в основе которого, тут надо отдать ему должное, всё-таки лежал достаточно человеческий, а не людоедский ЗМК (в отличие от таких старых культов, как, например, авраамические). Так что ему оказалось нужно для насыщения не такое уж большое число людей.
А есть религиозные ЗМК, которые, кажется, не насытятся, пока не пожрут всё. И, к сожалению, всех их мы знаем по именам.
Вряд ли авторы «Пути» размышляли об этом в моих терминах. Но они хорошо чувствовали то, о чём рассказывают, и интуиция вывела их на достоверную и правдоподобную картину духовных исканий и отдельного человека, и группы людей — картину где-то неприглядную, а где-то трогающую за живое. Ни чёрного, ни белого, добро и зло подчас — лишь вопрос точки зрения.
P.S. А вот жизненный путь религия старого типа (а может, теперь нужно уже говорить «новейшего»), кстати, выглядит иначе.