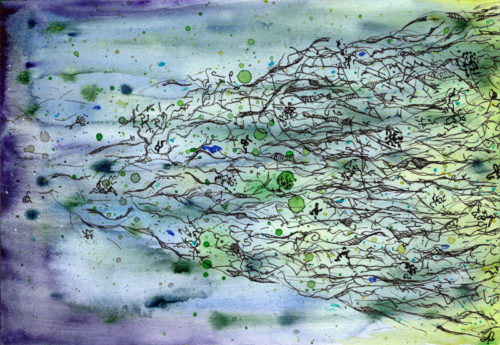Под забором спит Цербер с тремя лапами и двумя головами,
так уж вышло, что он кое-что потерял, пока добирался до этого места.
Четвёртая лапа тихонько растёт во сне,
третья голова потеряна — отдана
в обмен на возможность предсказывать нужный момент,
начало эпохи потерь, мира конца,
личное время Цербера.
Он проснётся, и время то истечёт. Наступит финал не только его эпохе.
Вот сейчас — только лапа сперва отрастёт.
Цербер во сне улыбается; переваривает сновидения
кудлатый его живот.
Надо проснуться, припомнить, что было тогда,
когда первая битва в мире звучала.
Надо припомнить и повернуть назад.
Надо начать сначала.
Цербера будто штормит
между новым и старым слогом.
Рваный край или же чёткий ритм?
Верность или свобода? Он скалится, тихо рычит во сне, бьёт по земле хвостом;
чтобы не выдать себя, он видит ещё один сон.
———————————————————————-
Церберу снится Титаномахия.
———————————————————————-
Во время Титаномахии Цербера ещё не было,
но как бы и был он — «в проекции».
Он витал над сражением вместе с другими,
такими же отголосками нерождёнными
будущего ещё не предрешённого, не явленного.
Половина его товарищей была создана титанами,
вторая стояла за олимпийцами.
Но между собой отголоски не ссорились.
Им всё равно было, кто из какой пришёл линии.
Ведь и те, и другие знали: победят олимпийцы, титаны ли,
но всё равно скормят половину из них той второй половине,
что останется. В общем, вертел Цербер ту Титаномахию.
Перекидываться Цербер наловчился в том первом из всех тринадцатых
столетий, что прожил (и ещё проживёт, конечно).
Время тогда было скучное, вот он и человеком быть попробовал.
А потом хоронился в лесах от всяких обидчиков,
что прозвали его демоном.
Он себя считал честным чудовищем, демон — это как-то оскорбительно.
Будут ещё времена, в которые его доводы бы поняли.
Его бы самого бы погладили.
Отменили бы в честь него пару личностей.
Передумали бы. Переотменили обратно. Возможно, так и оставили бы.
Хоть какое-то развлечение, думал Цербер тогда,
догрызая очередную ветку в сердце очередной чащи.
А то тут одна лишь скучища.
В общем, перекидываться он научился —
и похоже, вот это его и подставило.
Цербер осторожно просыпается. По-собачьи встряхивается.
Косит сонным взглядом, вздрагивает.
Поводит правой головой, затем левою — и превращается
в человека — ну совершенно одноголового.
Даже недурён собой, кое-кому нравился.
Цербер чешется, морщится, к забору прислоняется и думает:
ну вот и снова Титаномахия.
Среди отголосков над полями Титаномахии
у Цербера есть два друга, оба из войска титанова:
один, значит, дуб, достаёт ветвями до неба,
корнями до земного диска краешка.
На ветвях того дуба обитают целые виды,
прячутся в них от смертельно горячего солнца, а в корнях его —
от холода. Мир титанов покрыт проплешинами
льда и пламени, это планета контрастов и магии.
Второй друг Цербера — двухголовая ящерица.
А может — и двутельная, он и так, и так о ней думает.
Вместо лап у неё растут чудны́е пружчиночки,
а к голове вертикально приставлена ещё одна ящерка.
Глядя на это, Цербер всё думает:
чем они срослись там? Как они устроены?
Цербер из мира, где наука приходит вслед за магией.
Воля богов такова, такова очерёдность развития.
Титаны же против: они любят лишь магию.
Лишь странные вещи, созданные воображением.
Но что до отголосков будущего,
то ни Цербер, ни его товарищи,
не считаются, кто из них хуже, кто лучше, кто выживет,
кто достоин, а кто мусор цивилизации.
Вся эта Великая Битва Выбора,
идёт мимо них, им она до лампочки
(хоть накаливания, а хоть питаемой магией).
У них-то самих никакого выбора.
Только ждать, кто ж в этот раз выиграет.
В первый раз победили титаны, и настала магия.
Все чудовища олимпийцев погибли, как не случившиеся.
И только Цербера титаны оставили.
Порешили меж собой его использовать по назначению.
Он же создан, как сторож, так пусть сторожит тогда.
Пусть следит, как всё выйдет и чем всё закончится.
Дело ведь было ни в том, что титаны выиграли,
а всегда только в том, чтобы мир в итоге выстоял.
Так что всё возвращается к Титаномахии.
Побеждают боги, титаны, титаны, боги, титаны, боги.
Время схлопывается, разворачивается, снова схлопывается.
Вновь сначала, и каждый раз Цербер видит всё.
А что до вот этого раза, текущего,
он считает, что вышло неплохо практически:
дотянули почти до космоса.
Вот теперь Цербер окончательно просыпается.
На мир, что к концу подошёл, смотрит задумчиво.
Что сказать, когда спросят про мир?
Сказать, что видел утопию?
Настоящую, давно уж обещанную.
Он и сам как-то вырвал о ней предсказание
у одного духа источника. Так рычал на него,
что дух водою обгадился.
И чтобы спасти свою не совсем вечную жизнь
предложил дар видеть то, что ценнее свободы.
Вот так у Цербера не стало одной головы.
Но тогда он не знал ещё, за что именно её отдал.
Настоящая утопия, думает Цербер, прям как обещано.
Так и скажу им: наконец, наконец-то стал ей свидетелем.
Все равны меж собой — потому что мертвы окончательно.
Тут осталась одна лишь «проекция».
Поле ровное. Достигнуто просветление.
И реально все битвы навсегда окончены.
Сражаться-то некому.
Светит идеально круглое солнышко.
Цербер скажет: видел смерть я последнего
земли обитателя. В общем, всё теперь кончено.
Им придётся поверить: спрашивать-то больше некого.
Надо пробовать заново, скажет он, пробуйте, пробуйте.
Вдруг однажды получится.
На него возложена миссия,
и титаны, и боги ему сочувствуют:
как живёт бедный Цербер, свидетель всему и вся?
Тяжело быть последним, кто в мире останется.
Кто подводит итог: так, мол, и так,
далеко ль всё зашло,
какие были камни, какие течения.
В чём провал. А провал есть всегда.
Мир такой переменчивый.
Так что они слушают внимательно и корректируют
свои действия, планы, стратегии.
Он молчит об одном: каждый раз
в переменчивом мире есть вещи и неизменные.
Неизменные вещи — с ними он сталкивался.
Но его блуждания и превращения —
где в них место для чего-то неизменного?
———————————————————————-
После третьей из тех Титаномахий, где победа была за олимпийцами,
где-то в веке двадцатом Церберу встретилась
смотрящая на него с любовью женщина.
Он мог бы соврать себе (больше тут никто не услышит),
что не помнит ни имя её, ни глаза, ни губы.
Что не боится столкнуться с ней снова под их общей крышей.
Что потерь не боится и боли.
Только смысл врать, если, сколько виткам не виться,
ни в одном он больше не подойдёт к ней снова.
Он бежит, он скрывается, он хоронится,
всё в тех же лесах, в их древних и мрачных чащах.
Ах, леса, чудовищам верные братья,
адским псам, чьё хрупкое сердце сломано.
———————————————————————-
Когда мир заходит в тупик?
— Это решать Церберу.
Когда запускать обратный отсчёт?
— Это решать Церберу.
Всё, что было прекрасного в мире, вчера истекло.
— Каждый раз именно это решает Цербер.
———————————————————————-
Ныне Цербер прячет лицо, но в тот первый раз он всё рассказал:
мир уже случался, хотя был совсем другим.
Я его пережил уже пять или шесть… восемь раз?
А ты — ты уйдёшь, и что же мне делать таким?
Посмотри на меня, я ведь адский пёс.
Этот мир — просто ад, и я его сторожу.
Для чего мне то, что мне вообще не понять?
Кто я теперь, когда на тебя смотрю?
И она тоже долго смотрела в ответ,
он не выдержал, снова заговорил:
смерти нет мне, я не смогу вослед
за тобою спуститься в Аид.
И она улыбнулась: моё имя — любовь.
Говорят, я сильнее титанов, сильней богов.
Если так, я вернусь, просто жди меня, слышишь? Вернусь.
Просто жди, мой любимый, бессмертный мой пёс.
———————————————————————-
Ровное поле, мир опустел — подошло время первой из битв.
Возвращается цикл к началу, змея кусает свой хвост.
И Цербер — Цербер сохраняет человеческий вид.
Человеку соврать попроще, он же не пёс.
Он ответит подробно, но в каждом ответе немного солжёт.
Он умело развеет богов и титанов сомненья.
Правда в том: Цербер ждёт. Цербер ждёт.
Неизменная вещь остаётся всегда неизменной.
Если б только знали они, какой им движет мотив.
Что давно он пускает их поезда под откос,
Что давно он решил: цикл так и должен идти.
Цербер врёт в ответ на тот самый вопрос.
———————————————————————-
Просто жди.
Цербер ждёт.
———————————————————————-
«Моё имя — любовь. Говорят, я сильнее всего.»
Он её потерял, люди живут очень мало.
В новом мире всё было иначе… кроме неё.
Он глазам не поверил. Она его не узнала.
И он спрятал и сердце своё, и лицо,
отвернулся, но был для неё вечной тенью.
Он её охранял, отгонял подлецов,
ждал, любил, проникал в сновиденья.
Каждый мир, каждый новый виток
она снова рождалась, но если однажды
цикл прервётся, канет в бездну его любовь —
тут уж выборы и развилки станут не важны.
Цербер любит её, конечно, издалека.
Но со смертью её — виток, считай, на исходе.
Цикл прервётся? Дудки. Он навсегда.
Цербер скалится: мне другой вариант не подходит.