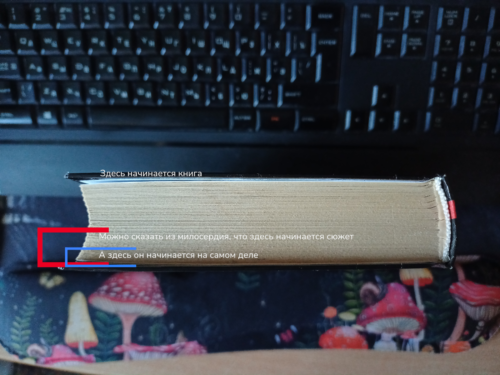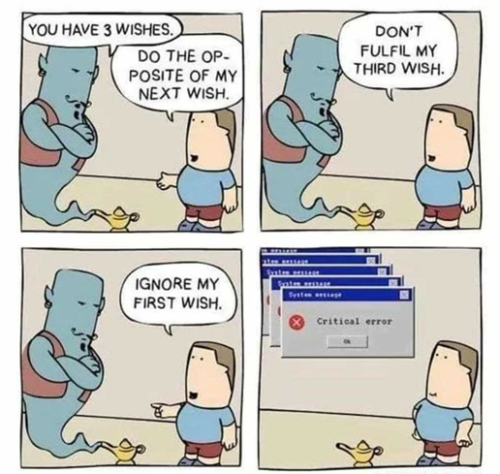Любопытно сравнивать свой опыт с чужим в написании историй.
Например, я давненько заметила, что со мной в творческом смысле что-то не так. Не так, как люди об этом говорят. Есть тема, на которую мильон лекций, воркшопов, статей: существует ли вдохновение (мой ответ: нет, но есть поток, инсайт и несмолкаемое ворчание подсознания), что делать, если не пишется, что делать, если нет идей, что делать, если тупо смотришь на белый лист, что делать…
А я, глядя на такие заголовки, думаю не «что делать», а «блин, что это?». Я понятия не имею, что такое вдохновение. Я не пытаюсь рисоваться, а действительно не понимаю.
Вычтем иногда накатывающую лень, усталость и необходимость сделать сперва какие-то другие дела, и тогда останется вот что.
Если я не хочу писать что-то по конкретной текущей задаче, то по двум причинам (вместе или по отдельности): а) я в тяжёлом физическом состоянии, б) я о чём-то думаю. То есть что-то в этой самой задаче, в плане, что именно написать, придумано не так, и внутри меня идёт работа по устранению этого «не так». Я не приступлю к написанию, пока не продумаю, что, о чём и как хочу рассказать. Когда-то очень давно, по наивности, я пыталась в такие моменты писать, это было бесполезно — плохо, никакого удовольствия и потом написанное всё равно приходилось переделывать в соответствии с вновь придуманным. Ну и смысл?
Возможно, дело в том, что многие годы я загружаю мозг такого плана работой, и нейронный связи давно перестроились. Часть меня всё время держит истории в голове и обдумывает текущие, следующие и те, планы на которые заключаются пока только в словосочетаниях вроде «чернильное жало».
Или вот другое. Ведущая на семинаре: «Я отдаю себе отчет в том, что невозможно написать книгу так хорошо на бумаге, как она выглядит в твоей голове. Это невозможно. Я открыла для себя этот гениальный секрет только к пятой книге. До этого ты написал книгу и думаешь: «Сильно не дотягивает до того, что было в голове».»
Это очень интересно. Я ни разу так про текст не подумала. Сперва я не умела писать и не понимала, что текст не дотягивает вообще ни до чего. Потом научилась. Кажется, где-то в середине был переходный период.
(Тоска о том, что в голове выглядело лучше, у меня есть в отношении рисунков, хе-хе.)
А ещё мне никак не сравнить текст с тем, что «было в голове», потому что у меня в голове просто нет готового текста. Есть ощущение, которое должно быть от текста при прочтении, и я обычно хорошо в него попадаю.
«Как работать с перфекционизмом? Я не встречала ни одного человека, который был бы доволен тем, что он написал, на 100%.» — читаю я. И думаю: божечки, со мной реально что-то не так.
Конечно, я не всем довольна на сто процентов. Есть рассказы, которые я считаю похуже, и те, что я считаю получше. Но если говорить о длинных вещах, то я реально ими довольна. Совершенны ли они? Ну нет. Но они такие, какими я хотела их видеть.
Единственное исключение — «Другая химия», потому что я просто не помню, какая она, но у меня от неё не очень приятное ощущение. И это может быть не проблема текста, а того, что связано с обстоятельствами публикации и проч.
И ещё «Д. Х» — тот самый переходный период. Когда я писала её, ни в первый раз, ни во второй у меня не было ощущения, которое я хочу получить. В каком-то смысле это была учебная книга, на которой я пробовала писать длинный связный текст. И вот она закончена, в ней связный сюжет — ну и прекрасно.
Я думаю, это чувство — что текст существует в моей голове будто облако, взвесь, в которой есть всё, чем он является, — сюжет, композиция, персонажи, арки, тема, структура, стиль, сеттинг и т. д., и т. п. — и то, с чем он связан, — реальные обстоятельства, в которых я это придумывала, темы и вещи, которыми я интересовалась, даже моментные ассоциации, всё это, — вот это чувство есть облако, что плывёт, и клубится, и течёт, и кипит, и живёт, и я знаю, какое оно, я могу присвоить ему эпитеты, могу описать его форму и текстуру, и ощущения от него, и тексты становятся проекцией этого облака.
Так вот, с «Д. Х» не было ещё такого. И в самом начале первой истории про Время Сновидений такого ощущения тоже ещё не было, поэтому начало потом пришлось переписывать достаточно сильно. Когда ощущение появилось и окрепло.
И и-за облака же я помню все написанные романы и повести. И те, что ещё ждут очереди, но облака для них уже существуют. И некоторые рассказы, для которых тоже есть это облако. Но не помню «Другую химию». В моей памяти нет её ощущения.
Когда я поняла про облако и описала его (не сейчас, когда пишу пост, пораньше), я подумала, что облако — не слова (хотя они есть внутри него), а именно ощущения, как от органов чувств. И я достаю оттуда слова, переводя облако ощущений в них. А поскольку я пишу много лет, мне уже не так сложно перевести объёмную и многомерную взвесь в одномерное и плоское словесное полотно.
А потом я прочла вот это (https://t.me/screenspiration/515): «Надо сказать, что гениальные озарения все-таки лучше работают, если тот, кого озаряет, и тот, кто это записывает, – один и тот же человек, а не трое разных. Но даже в этом случае удивительно, насколько разные это навыки: чувствовать – и говорить. Внутренне ощущать свой будущий фильм – и словами описывать то, что производит в тебе это ощущение.
Вообще говоря, это и есть перевод с одного языка на другой. И именно для этого Тарковскому нужны были сценаристы – в качестве переводчиков с подсознательного на человеческий.»
И дальше: «Это очень точное наблюдение. У черновика нет задачи быть внятным читаемым текстом. Он нужен всего лишь как точка опоры для авторского воображения – и автор прекрасно ее получает из пары бессвязных фраз и трех словосочетаний, одно из которых – капслоком, а два других ничего не значат.
Для автора из всего этого выстраивается захватывающая история. Но дальше ее надо кому-нибудь показать – и вот тут начинаются мучения.»
Да, перевод с подсознательного на человеческий.
И да, есть ещё третья причина, почему иногда я не пишу: план готов, он прекрасен (и обязательно часть его изменится, особенно середина), опорные вешки выстроены, теперь нужно приступать к трансфигурации всего этого в развёрнутый текст. И тогда что-то внутри меня немеет от ужаса, потому что мы — я целиком и все моим составляющие по отдельности, прекрасно знаем, что будет дальше. Мучительно-прекрасное утопание. Я нырну в эту работу, мой мозг заведёт моторы и вдавит газ, и я перестану слышать внешний мир, вытаскивая из шестимерного облака что-то и переиначивая его в одномерные слова, и это очень непросто и затратно чисто физически.
Но никакого «страха белого листа» (блин, что это?). Когда я вижу белый лист, я вижу жертву, которую пожру и превращу в носитель рождённой мною информации. Пусть белый лист меня боится.
Но из-за предчувствия неизбежной траты ресурса, я, таки, откладываю начало работы день, второй, третий, пока не появляется чувство сродни обиде от потерянного времени, и тогда белому листу уже не спастись.