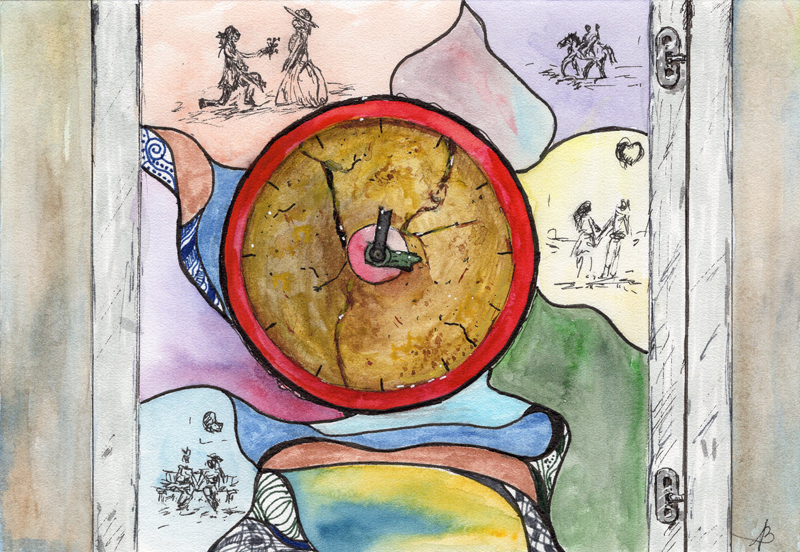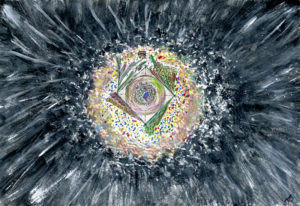Перевод записи из блога Лоры Перри о современном минойском язычестве. Оригинал опубликован здесь.
«Большинство современных язычников знакомы с восьмичастным Колесом года: солнцестояния, равноденствия и точки на полпути между ними. Но это современный конструкт. А также он не соответствует уникальным временам года Средиземноморья, где расположен Крит (и где жили минойцы).
Так что в современном минойском язычестве мы разработали священный календарь, основанный на средиземноморском цикле сезонов. Мы скрестили информацию из минойских артефактов и руин, археастрономию, многие фрагменты мифов, что дошли до нас через греков, и кусочек коллективного гнозиса. Это дало набор праздников, которые работают для нас как современных язычников, но всё ещё отражают то, что, как нам кажется, происходило у минойцев в бронзовом веке на Крите.

Если честно, я подозреваю, что минойский священный календарь, на самом деле, был вполне насыщенным (как и у греков и римлян). Возможно, у них было множество местных празднований, настолько же торжественных, как и те общие праздники, которые люди отмечали повсюду на острове, а может даже по всем берегам Эгейского моря. Те праздники, что мы собрали в современной версии, не дают нам заскучать в течение года, но список их не настолько обширен, чтобы мы не втиснули празднования в наше расписание, заполненное работой с девяти до пяти и другими обязательствами.
Как я уже упомянула, средиземноморский климат имеет свой уникальный цикл сезонов. Вместо весны-лета-осени-зимы тут есть только два сезона: дожди и засуха. И так во всём средиземноморском бассейне. Есть и другие местности со схожим климатом: Южная Калифорния, Южная Африка и частично Австралия.
В этих местах «мёртвое время» летом, в сезон засухи. Дожди прекращаются, погода становится по-настоящему жаркой, а растения коричневыми и ломкими, вода уходит — ручьи пересыхают полностью, реки текут медленными струйками. Потом дожди возвращаются осенью, смягчая почву, так что фермеры могут вспахать и засеять поля. Злаки растут на протяжении мягкой дождливой зимы, а урожай будет собран весной. Это прямо противоположно тому, к чему привыкли большинство людей северного полушария, но именно так это работает в Средиземноморье.
Итак, наш священный календарь начинается с нового года. Как люди в Средневековой Европе праздновали новый год весной, так, кажется, и минойцы начинали год с началом сезона роста и цветения, а для минойцев это была осень. Мы думаем, у них мог быть «нескольконедельный» праздничный сезон где-то в это время, и мы встроили его в современный календарь. Ну что ж, поехали, вот священный год в современном минойском язычестве:
Праздник винограда. 31 августа. Виноград собирают в конце лета, хотя актуальная дата могла варьироваться в древние времена (и может и сегодня, если вы растите виноград). Это время для почитания Диониса, который умирает вместе с собранным виноградом и спускается в подземный мир. Также это хорошее время для девинаций с вином.
Мистерии. 1-10 сентября. У Элевсинских мистерий, по-видимому, были предшественники на Древнем Крите. Для минойцев эта история была не о Деметре и Персефоне, а о Рее и Ариадне. Чарлин Спретнак в книге «Потерянные богини ранней Греции» предлагает прекрасную, вдохновенную версию этой сказки, в которой Ариадна спускается в подземный мир добровольно, без похищения.
Новый год. Осеннее равноденствие. В Средиземноморье в это время приходят дожди, и фермеры вспахивают и засеивают поля. Всё, что было мертво и высушено, снова возвращается к жизни. Мы можем вообразить, что Ариадна возвращается из подземного мира с первым зелёным ростком на полях.
Священное рождение. Зимнее солнцестояние. Самым ранним празднованием в это время года было, возможно, саморождение минойской солнечной богини, которую мы зовём Терасией. Но позже, по-видимому, появилось празднование рождения Диониса богиней-матерью Реей во время зимнего солнцестояния. Священное дитя, не имеющее отца, было рождено в пещере, окружённое животными, его рождение было возвещено звездой. Звучит знакомо?
Благословление вод. Первое полнолуние после зимнего солнцестояния или 6 января, как вам больше понравится. Это обряд соединения с вашими местными водными источниками, предпочтительно со свежей водой, но и с океаном сработает — в конечном счёте все воды на Земле связаны единым циклом. Этот праздник так же подойдёт для празднования взросления молодых мужчин или выбора человека на духовную позицию.
Урожай. Весеннее равноденствие. Это конец зелёного сезона в Средиземноморье, время для сбора злаков. Известный средиземноморский танец в кругу — Журавлиный танец (геранос)*, что ассоциируется с Ариадной и Лабиринтом, возможно берёт начало в древних гумнах Крита. Это время для вознесения благодарности предкам и трапез с ними, что-то такое, по-видимому, минойцы проводили в гробницах близ городов. Это также время, когда Ариадна возвращается в подземный мир, чтобы позаботиться о душах умерших.
Благословление кораблей. Ранний май, гелиакальный восход Плеяд (т.е. их появление на рассвете рядом с солнцем). Крит — остров, так что очевидно лодки и корабли были значимы для минойцев, от крошечной рыбацкой лодки до огромного торгового судна. Гелиакальный восход Плеяд сигнализировал начало сезона навигации (зимние ветра прекращались к этому времени), так что это время просить Посейдею о благословлении для корабля/лодки, моряков/рыбаков и путешествий, даже если вы всего лишь собираетесь выбраться на местное озеро порыбачить.
Макушка лета. Летнее солнцестояние. Как и зимнее солнцестояние, этот праздник пережил не одно наслоение за века существования минойского общества (как и древние египтяне, минойцы просто добавляли к тому, что уже существовало, новые кусочки религии, что появились сами или были заимствованы). Как у современных язычников, у нас есть разные опции празднования этой даты — чествуя ли солнечную богиню Терасию, или священный брак Ариадны и Диониса, или же и то, и другое.
Так вот, теперь у вас есть священный календарь современного минойского язычества. Ушло несколько лет, чтобы развить его, и я уверена, мы продолжим что-то добавлять сюда время от времени. Такие вещи и происходят с живой традицией.
Во имя пчелы,
И бабочки,
И ветерка, аминь.»
======================
Примечание к переводу:
*Германн Керн в «Лабиринтах мира» доказывает, что Журавлиный танец и был Критским лабиринтом, точнее Лабиринтом была площадка с выложенной каменными плитами схемой танца, известной нам как лабиринт минойского типа. Тот самый классический, состоящий из семи кругов, изображениями которого заполнены множество сохранившихся священных мест в Средиземноморье. Лабиринт оживал в ежегодном праздновании, когда участники воспроизводили путь Героя, путь Тесея к центру Лабиринта, где поджидает Минотавр (не просто хтоническое чудовище, а тьма, живущая в каждом, Тень — злоба, жестокость, властолюбие, эгоцентризм, пренебрежение другими, в общем — все качества психопата). Обратно Тесея выводила «нить Ариадны» — юноши и девы, что следовали за ним. Это история о схватке с собственной тьмой и победой над ней, о выборе между эгоцентричной слепой жестокостью и человечностью. Герой всегда выбирал последнее.
Журавлиный танец и состоял в следовании к центру лабиринта танцевальными па (действительно напоминающими движения журавля — или человека, молотящего зерно), а потом обратно — участники держались за руки, так что на обратном пути первый становился последним.