Перевод записи из блога Лоры Перри о современном минойском язычестве. Оригинал опубликован здесь.
«Наверняка мы не знаем, как минойцы называли своих богов и богинь, поскольку мы не можем почесть линейной письмо А, алфавит, который они использовали для записи своего родного языка. Но мы умеем читать линейной письмо B, адаптацию линейного письма А, которую греки использовали в Микенах во времена позднего Крита. И один из самых распространённых эпитетов для богини в линейном письме B — это «Potnia».
Так кто она? Она — это множество богинь. Я объясню, почему так.

Термин «Potnia» на самом деле не имя. Он означает «госпожа» или «хозяйка»* примерно в том же смысле, в каком виккане обращаются «госпожа» к богине (к одной или всем из них и/или к Единственной). Это титул, форма обращения, которая использовалась по отношению к различным богиням.
Итак, в таблицах, записанных линейным письмом B, есть Atana Potnia, которая может быть предшественницей классической греческой богини Афины, хотя на этот счёт есть аргумент. Мы на самом деле не знаем, что означает имя Atana, и поскольку это имя появляется на глиняных табличках из Кносса, оно, вероятно, не может отсылать к городу Афины**. В современном минойском язычестве наш коллективный гнозис нашёл истоки этого образа в минойской культуре, в образе богини, которую мы называем Potnia Chromaton — Госпожа цветов, в образе богини судьбы, связанной с прядением, ткачеством и крашением. Но Potnia Chromaton — это не древнее имя, хотя оно следует древнему паттерну именования богинь «Госпожа того-то».
Более известна, возможно, Potnia Labyrinthos: Госпожа Лабиринта. Это, похоже, один из эпитетов Ариадны, поскольку она была оригинальной минойской богиней, а не просто девушкой с клубком нитей. Я сочинила песнопение в её честь для ритуала и прохождения лабиринтов.
Таблички с линейном письмом B также дают нам имя Hippeia Potnia, которая, возможно, была Госпожой лошадей. Микенцы привезли лошадей на Крит в поздний период минойской цивилизации; до того крупный рогатый скот был тягловым животным. Так что Госпожа лошадей, вероятно, — микенская богиня, не минойская.
Потом есть Sito Potnia, Госпожа зерна. Это эпитет древней Матери зерна, которой были Рея для минойцев и Деметра для греков, она носила многие другие имена в других местностях.
В «Иллиаде» появляется эпитет Potnia Theron: Госпожа зверей. Хотя труды Гомера были написаны не ранее, чем закончился бронзовый век, их содержание вероятно восходит к устной традиции времён сразу после падения минойских городов. Так что этот эпитет мог быть известен минойцам. Конечно, и насчёт того, кем точно была Potnia Theron, есть аргумент. В современном минойском язычестве мы ассоциируем этот эпитет с богиней Бритомартис, также известной как Диктинна.
Термин Potnia также появляется в табличках линейного письма B без каких-либо дополнений. В таких случаях мы просто не знаем, к какой богине он относится, хотя, очевидно, тот, кто писал это в те времена, должен был знать; может быть, писец записывал дары, сделанные в конкретный день празднования, посвящённый конкретной богине. Во времена поздней Античности титул был обращён к нескольким разным богиням (Деметре, Артемиде, Персефоне, Афине, Гере), хотя ещё позже он стал означать только Кору / Персефону.
Итак, подводя итог, нет такой богини Potnia. Это означает просто Госпожа, другими словами, Богиня. Мы могли бы с чистой совестью использовать этот эпитет по отношению к различным богиням, прямо как это происходит в табличках с линейным письмом B и трудах Гомера. Или как в случае с Potnia Chromaton, когда мы создали новый эпитет в рамках современного минойского язычества. Такое происходило и происходит во всем времена, поскольку духовные практики растут и развиваются.
Так славься Госпожа: каждая из них!
Во имя пчелы,
И бабочки,
И ветерка, аминь.»
=======
Примечания к переводу:
*Термин «Potnia», встречающийся и в критской, и в греческой культуре, современная лингвистика возводит к общему корню индо-европейского праязыка «пот/пат». Этот корень, в частности, содержится и в санскритском слове «patnī» = «госпожа», в старолитовском «виешпатни» = «госпожа, хозяйка», в греческих словах «деспот» (изначально — «самовластный хозяин», без негативной окраски) и «деспойна»/«деспина» («хозяйка», в современном греческом до сих пор существует женское имя Деспойна); и в русском «господин» / «госпожа». Один из тех корней, что практически не изменились и остались во множестве родственных языков, он есть в словах со значением «хозяин» и «хозяйка». Таким образом, «Госпожа» — это не просто дословный перевод термина «Potnia» на русский, это, в общем-то, одно и то же слово. Эпитет, обращение к великим богиням, переживший не одну тысячу лет.
(И за это мини-исследование спасибо Грише, потому что он, как обычно, ведомый своим любопытством всё узнал, пока я думала, не перевести ли этот текст ровно на 8-е марта.)
**Мы также не знаем, что на самом деле означает имя «Афина» (как и «Гера», кстати), это слово, чьё значение и происхождение потерялось во тьме прошлого. Как древние критяне могли заимствовать это слово у жителей Микен, так мог произойти и перенос в обратном направлении. Я, впрочем, не утверждаю, что это именно так всё и было. Это имя могло появиться где и когда угодно и разойтись по всем берегам Средиземного моря, путешествовать на кораблях и лодках, с криками птиц и в человеческих сердцах. Как обычно и бывает с именами.







 Утопии всегда были уязвимы: на их белом беззащитном брюшке ярко светилась надпись «Насилие над личностью». Туда антиутопии и вонзили острые клыки, попутно припомнив, что во всех описанных утопиях условием их благополучия была экспансия.
Утопии всегда были уязвимы: на их белом беззащитном брюшке ярко светилась надпись «Насилие над личностью». Туда антиутопии и вонзили острые клыки, попутно припомнив, что во всех описанных утопиях условием их благополучия была экспансия. С тех пор, как родились антиутопии, всякая утопия носит в себе собственную антиутопию. Свой собственный конец. Свою неизбежную смерть. Ни одной утопии мы теперь не верим.
С тех пор, как родились антиутопии, всякая утопия носит в себе собственную антиутопию. Свой собственный конец. Свою неизбежную смерть. Ни одной утопии мы теперь не верим.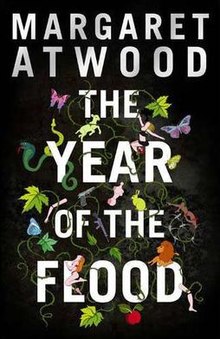 Дистопии — это хорроры, даже если скрывают свою истинную суть. Рефлексия общественных страхов. Они пессимистичны. Они не знают надежды. Они безвыходны.
Дистопии — это хорроры, даже если скрывают свою истинную суть. Рефлексия общественных страхов. Они пессимистичны. Они не знают надежды. Они безвыходны.







